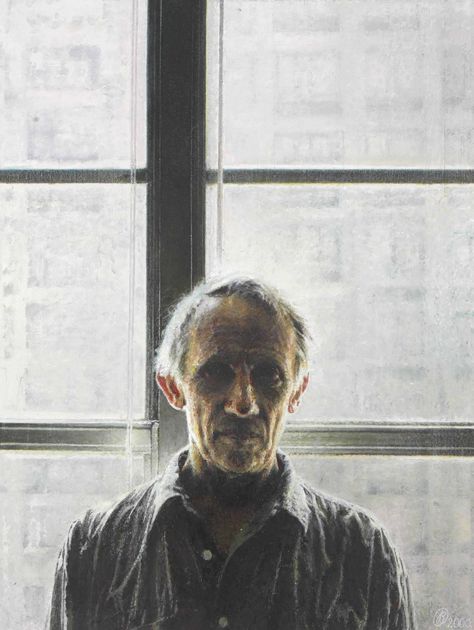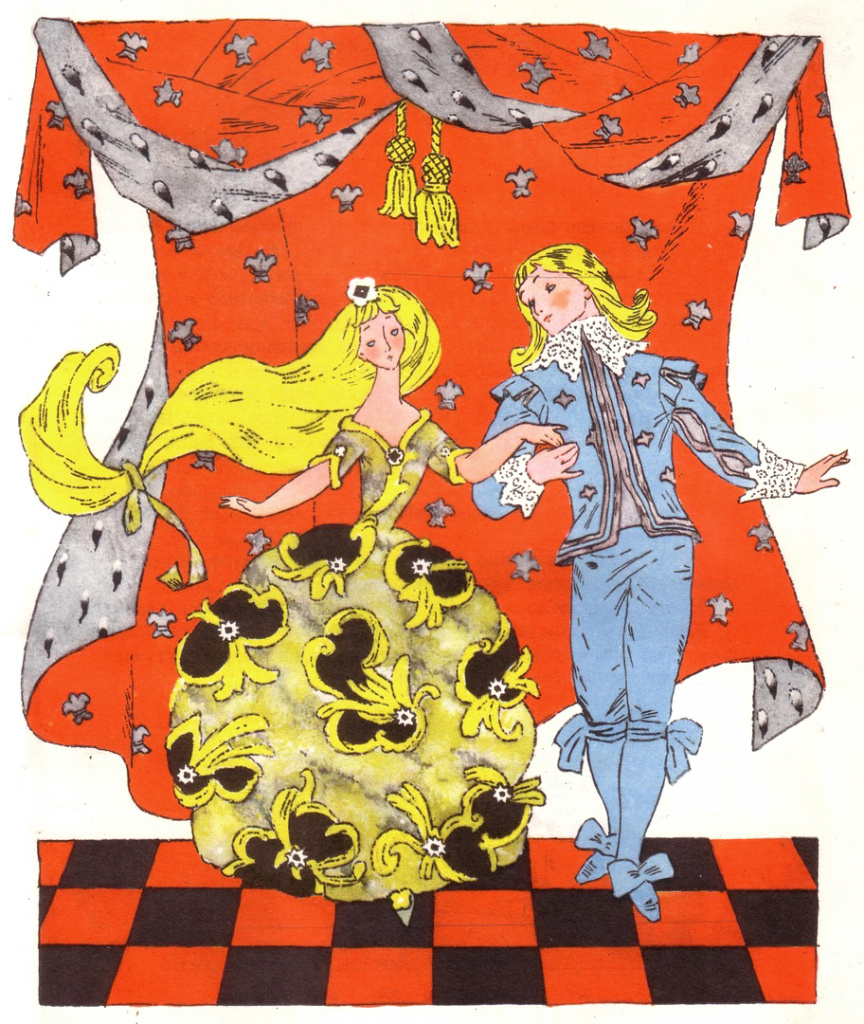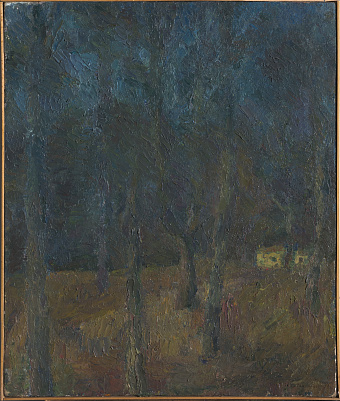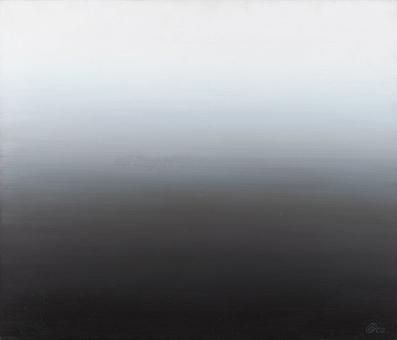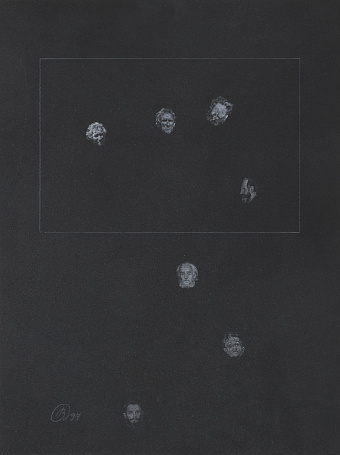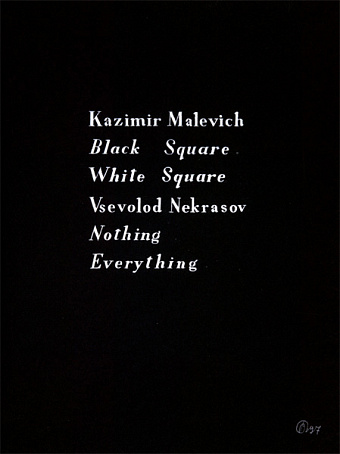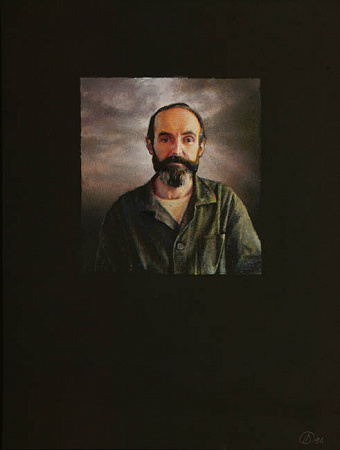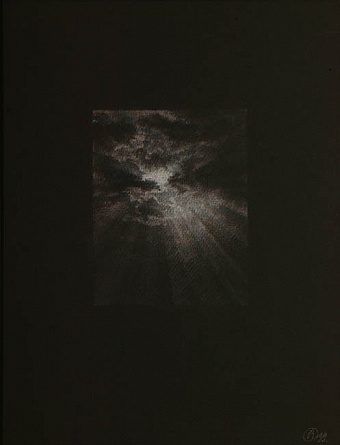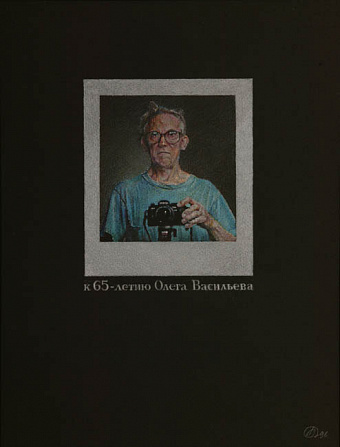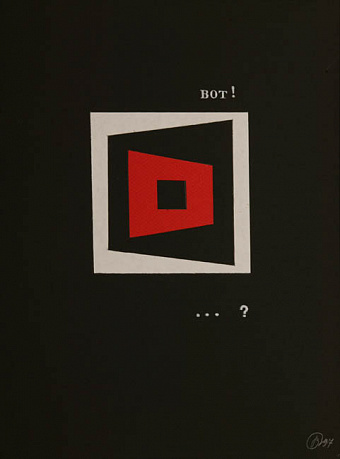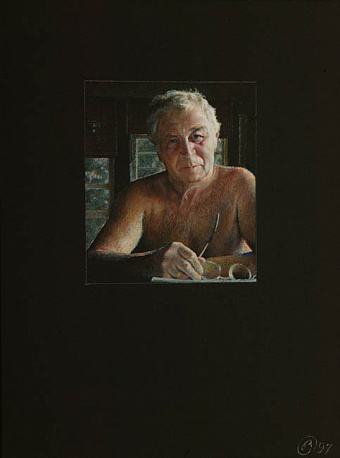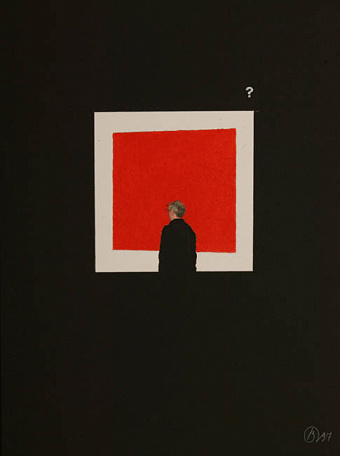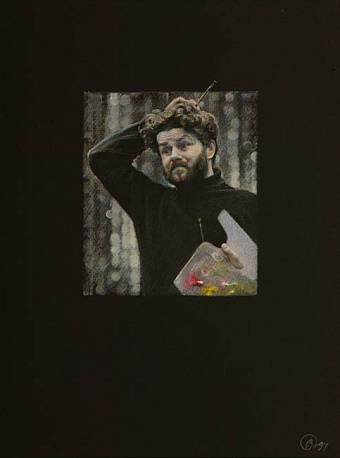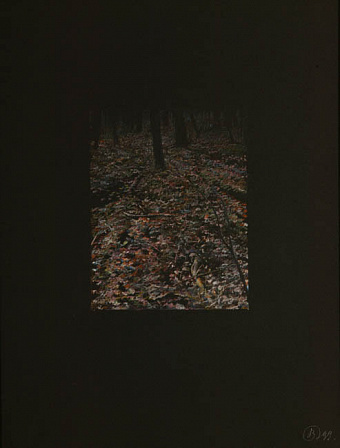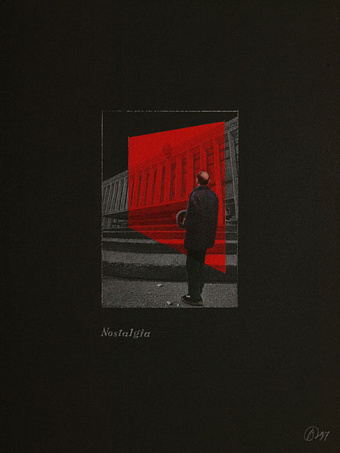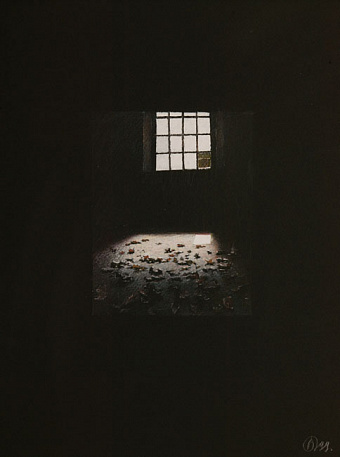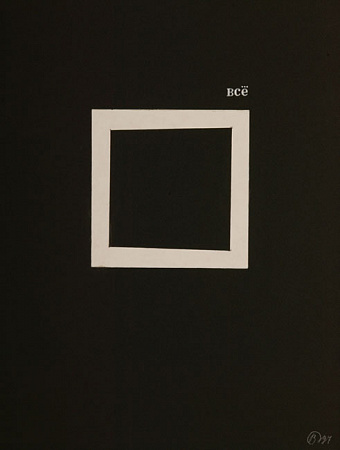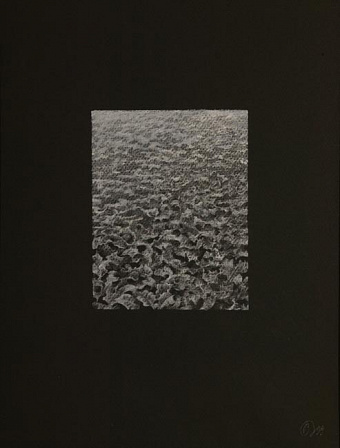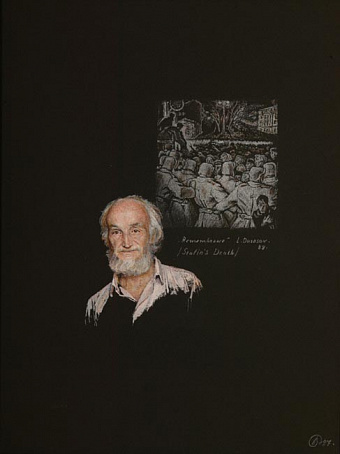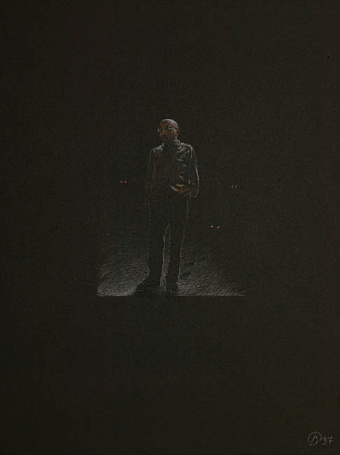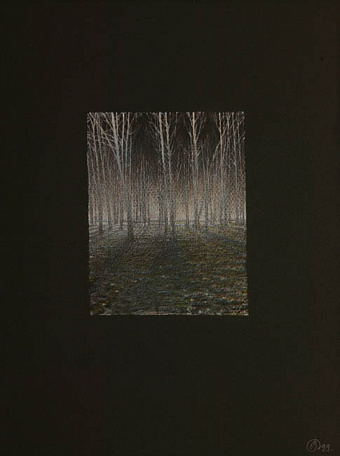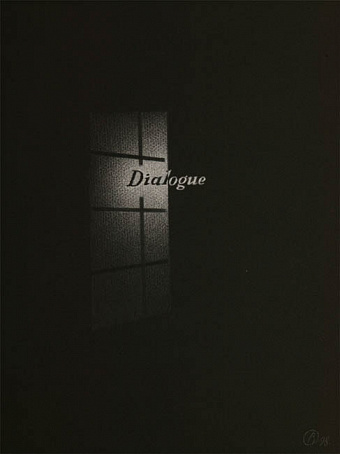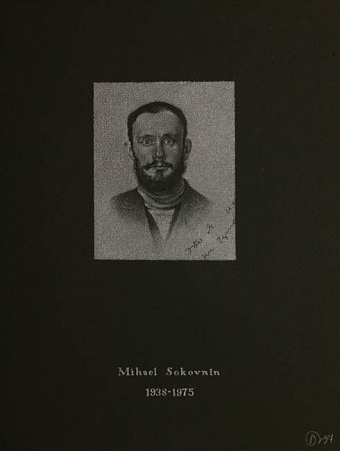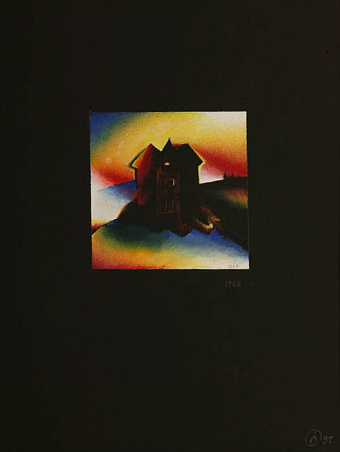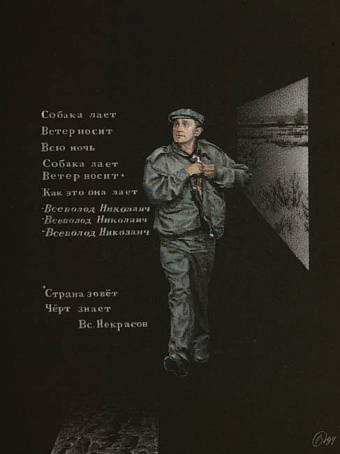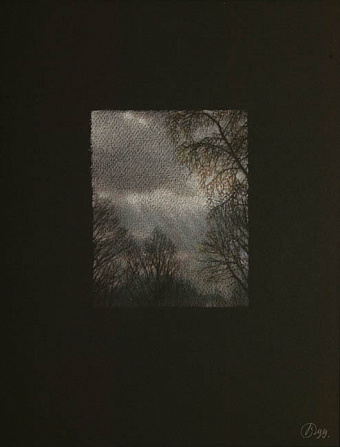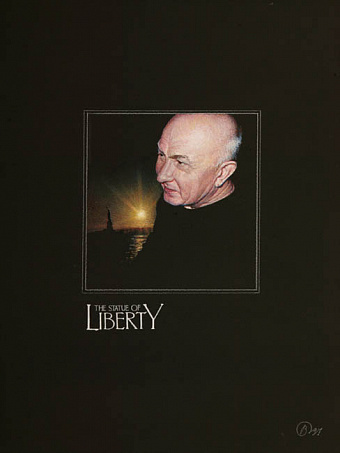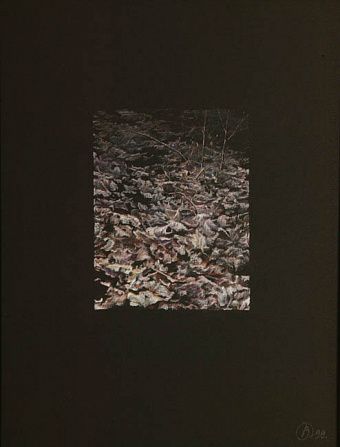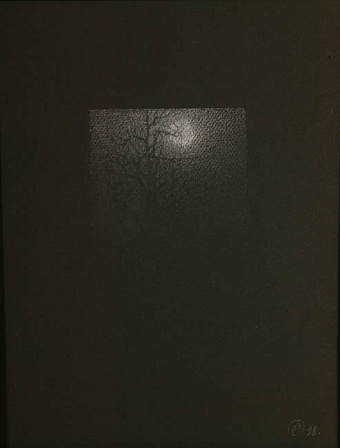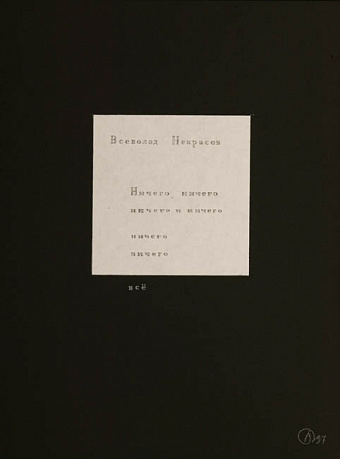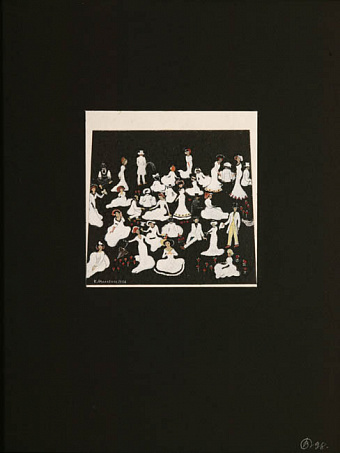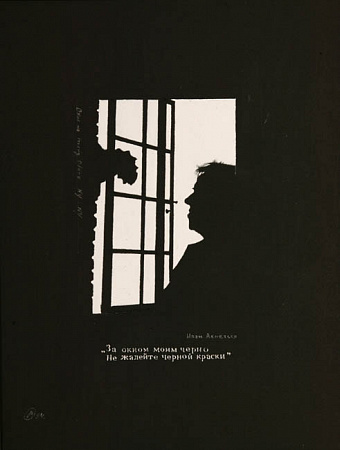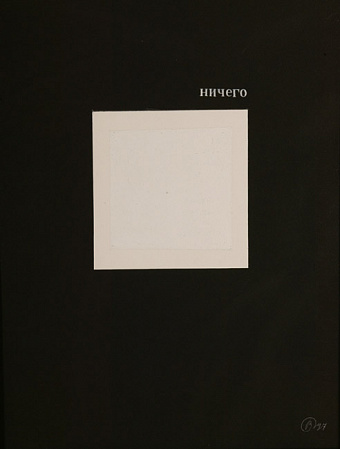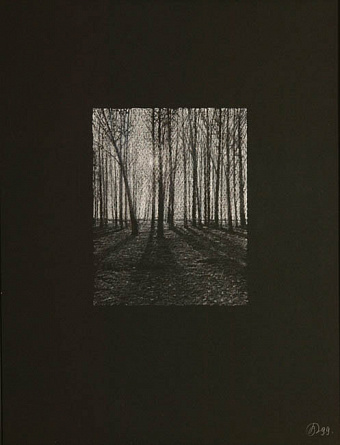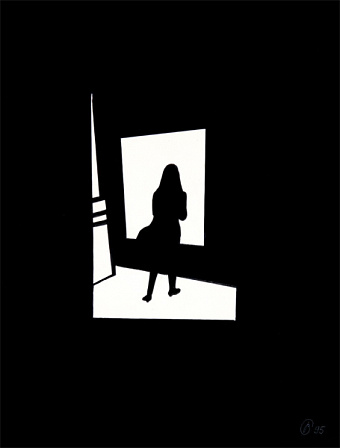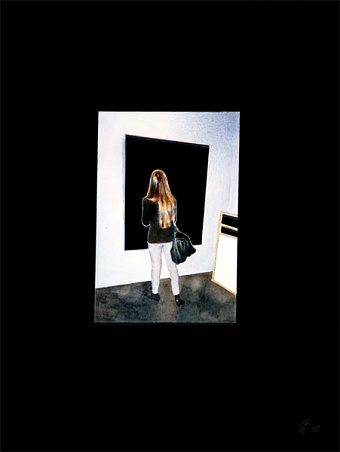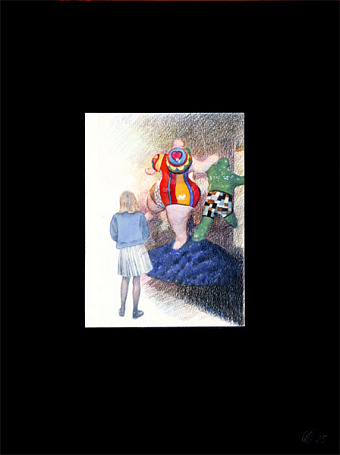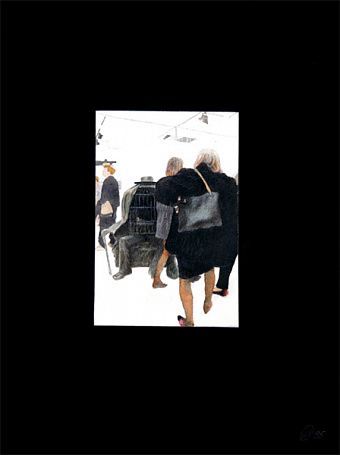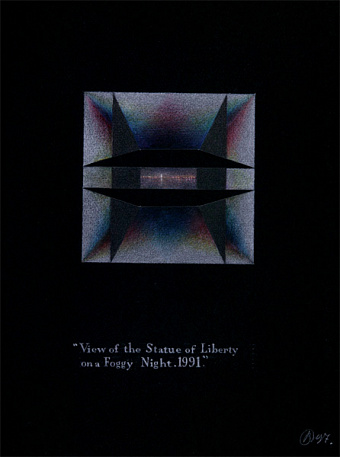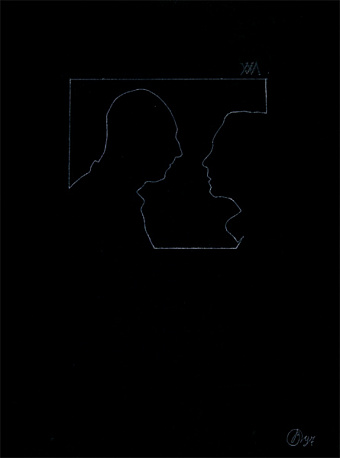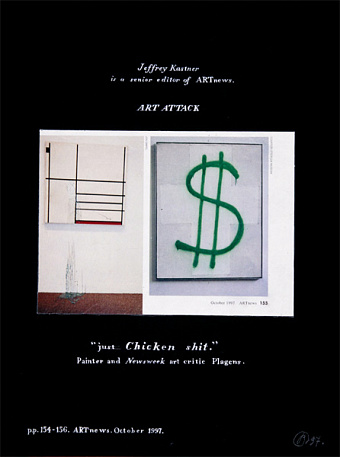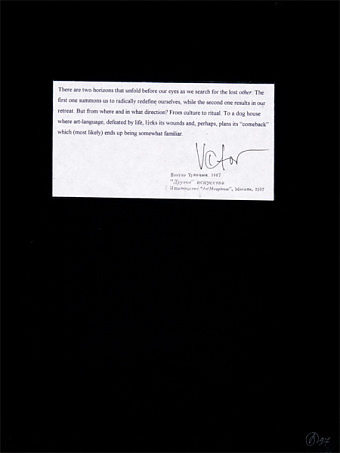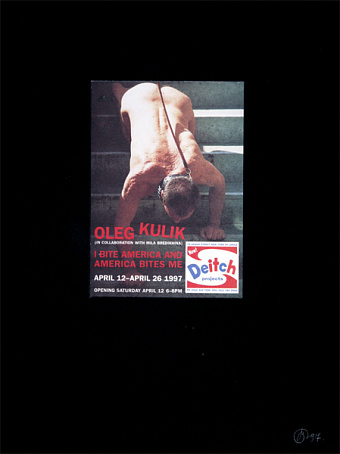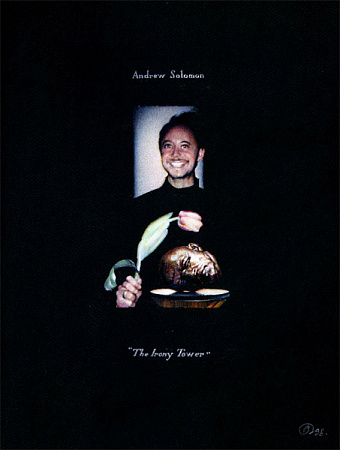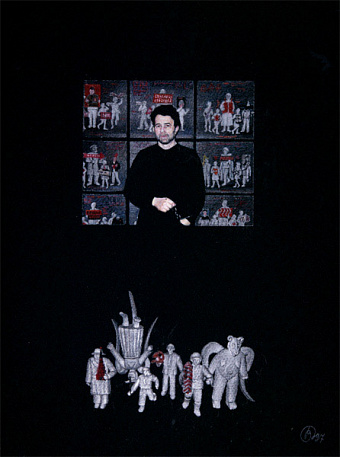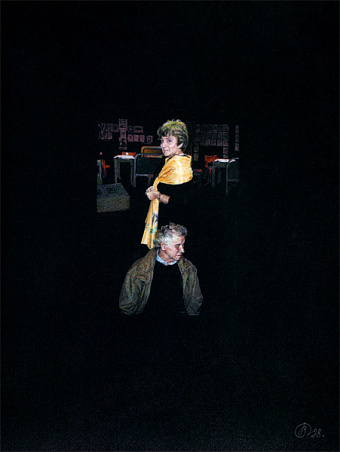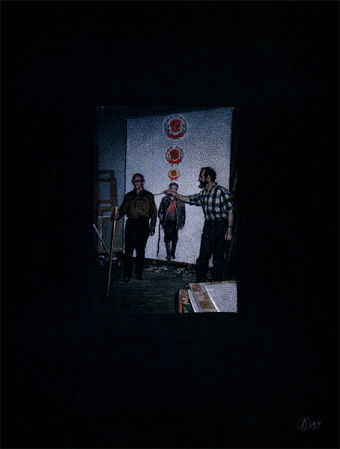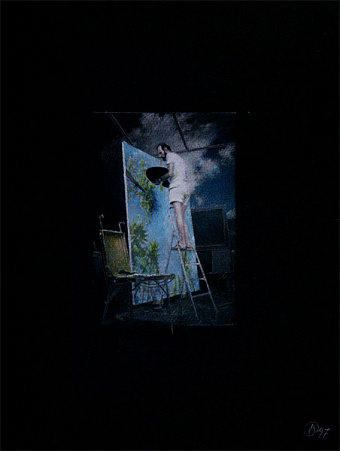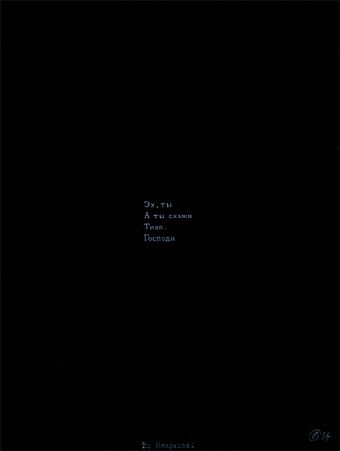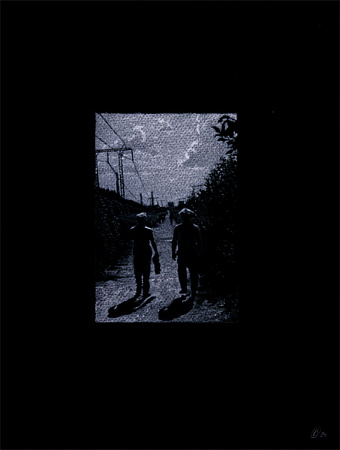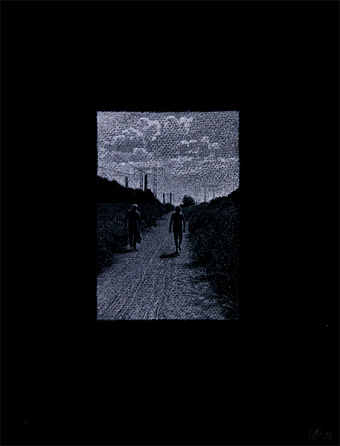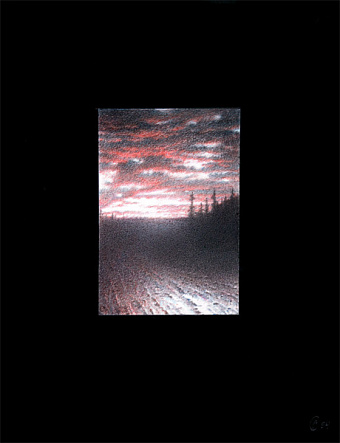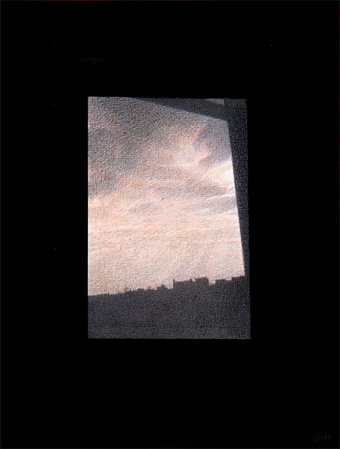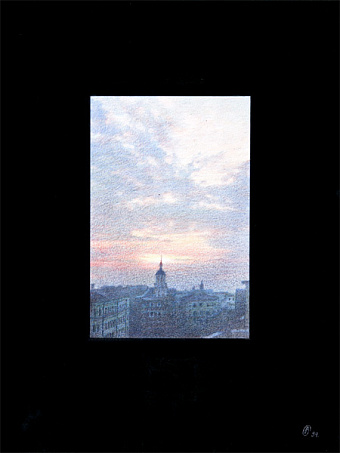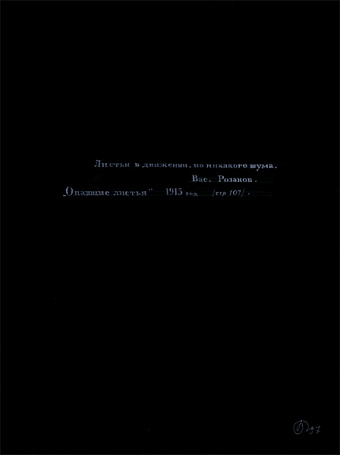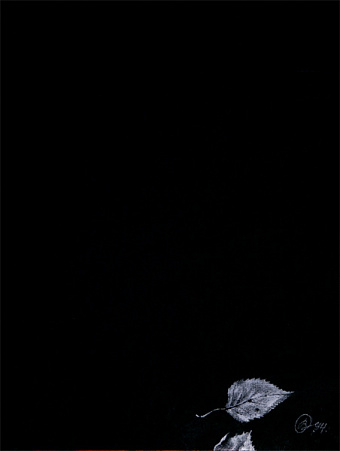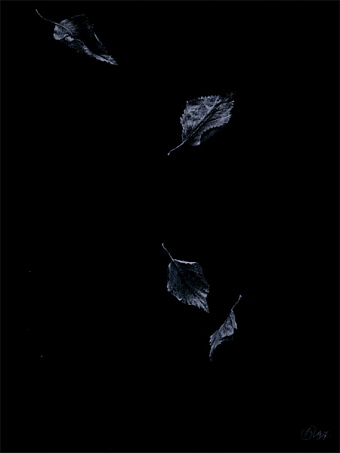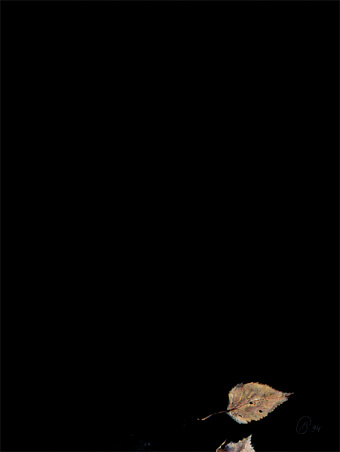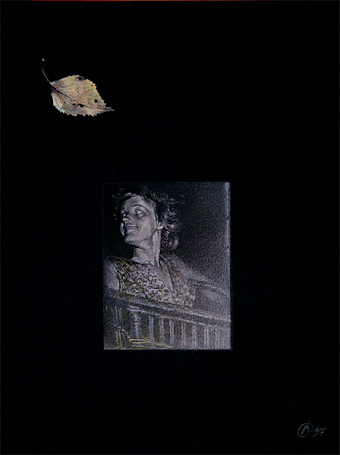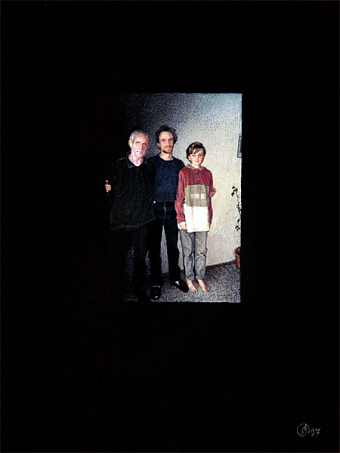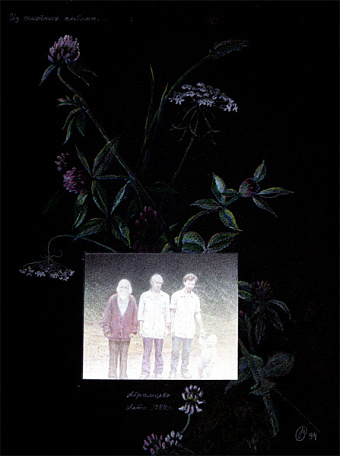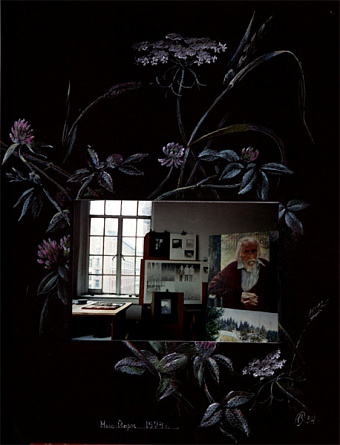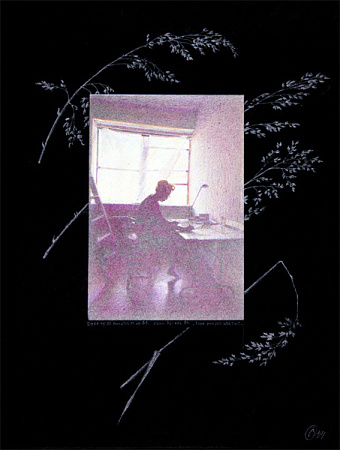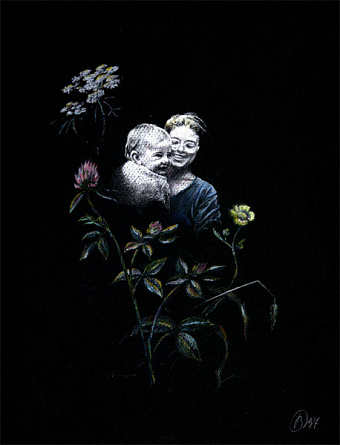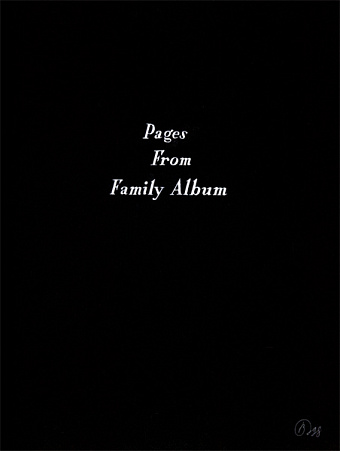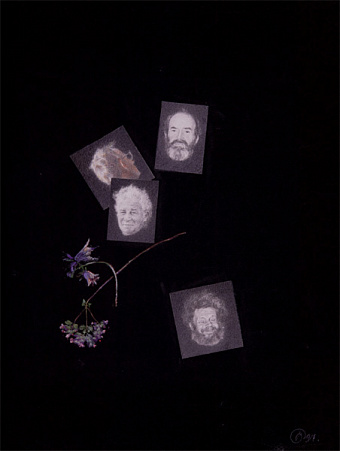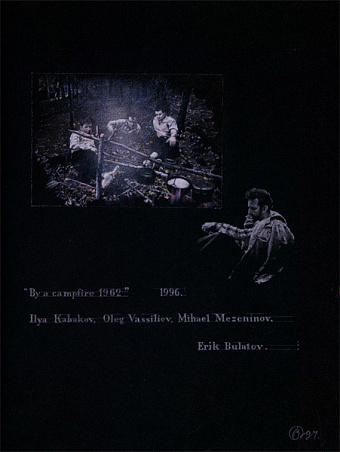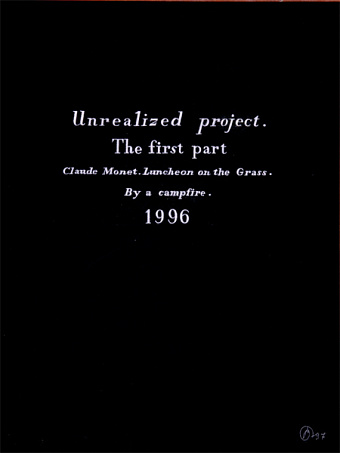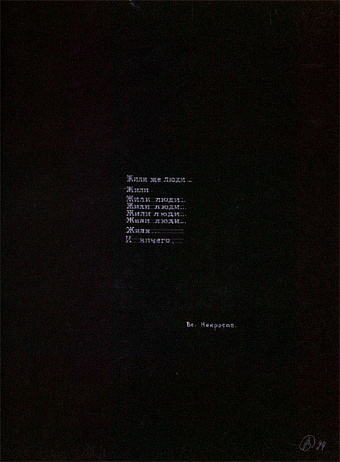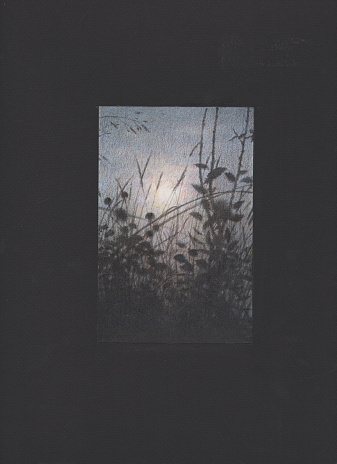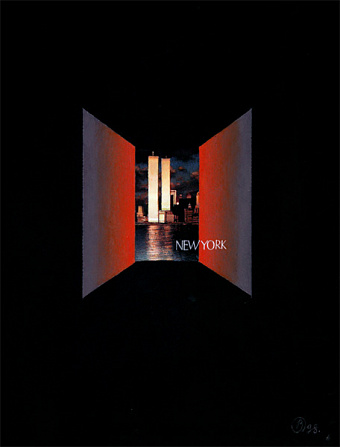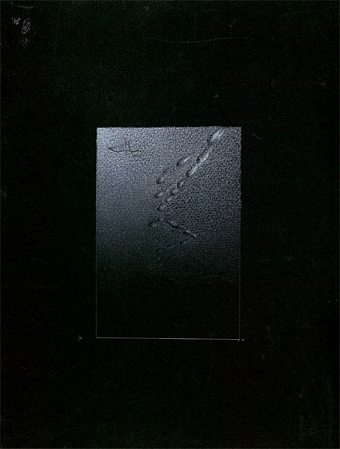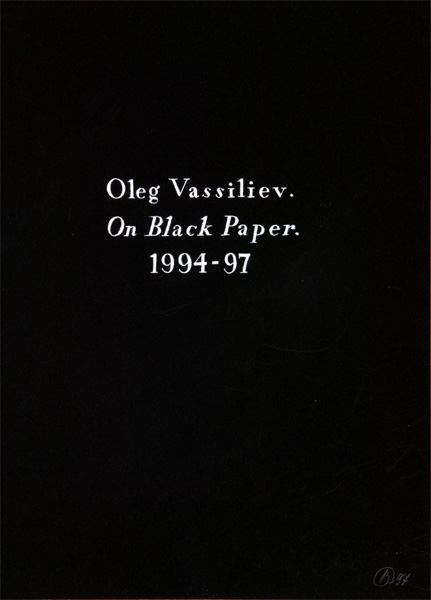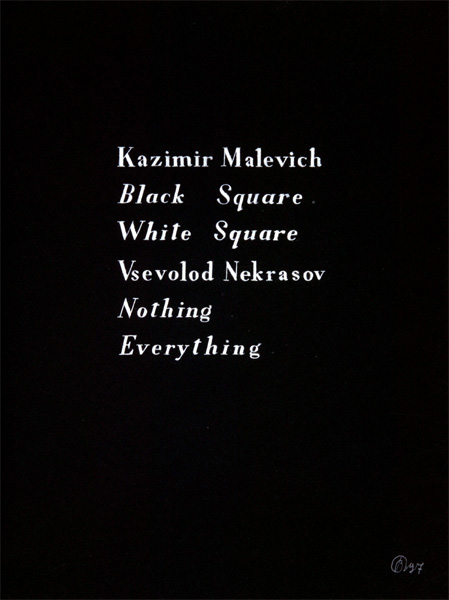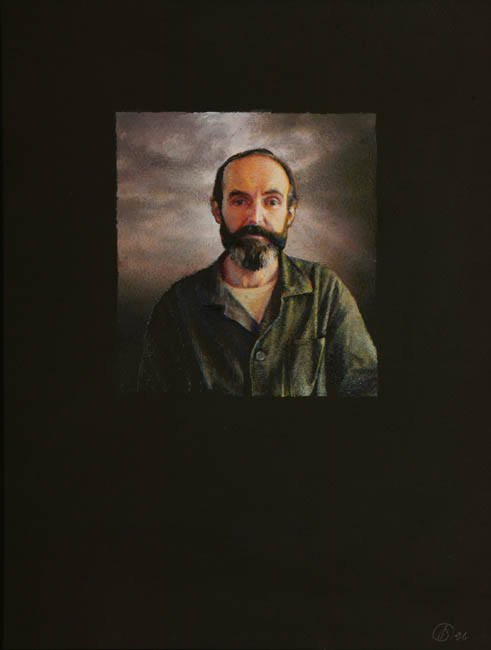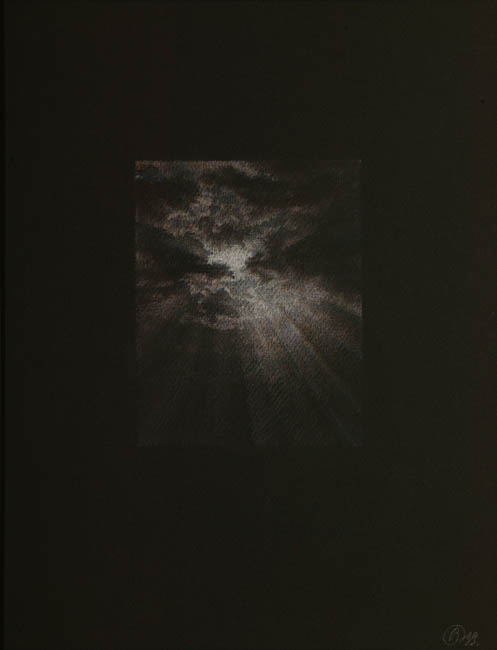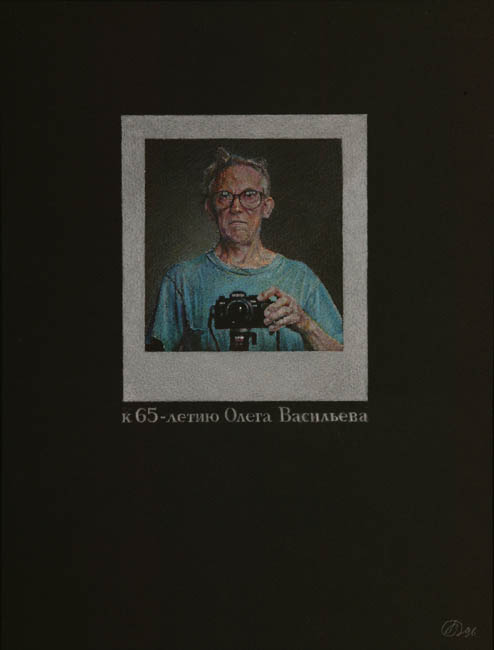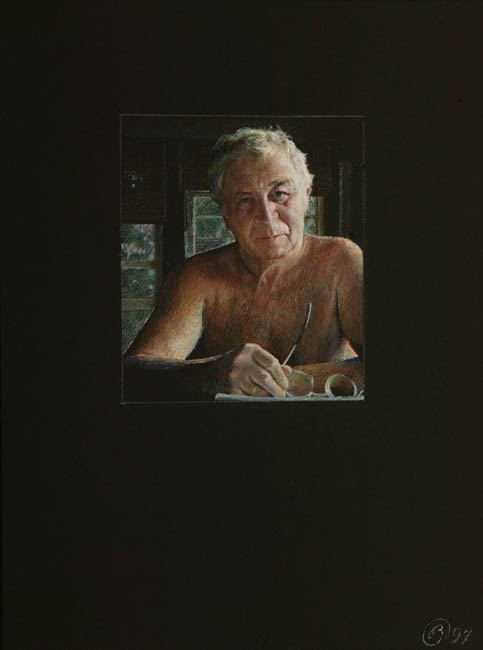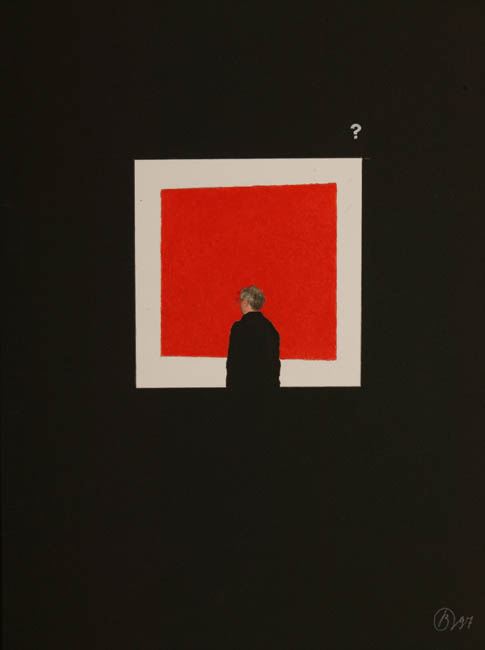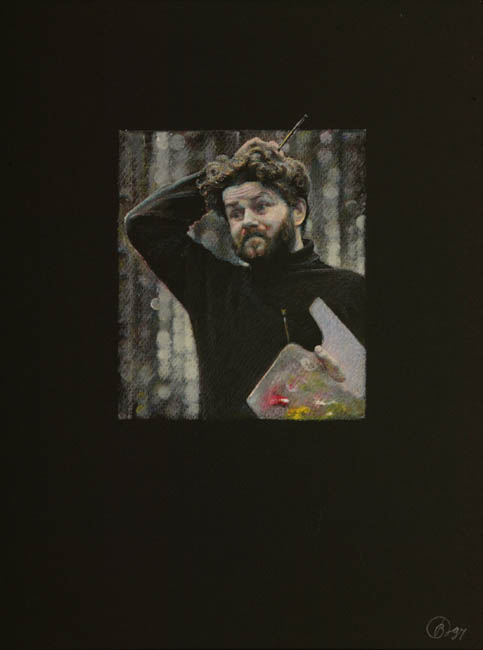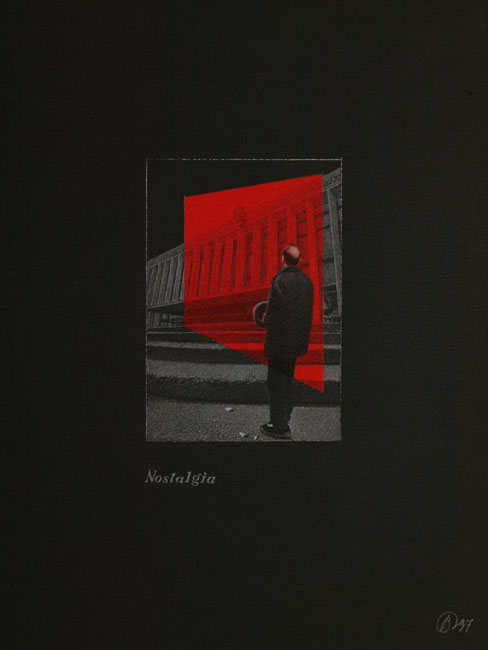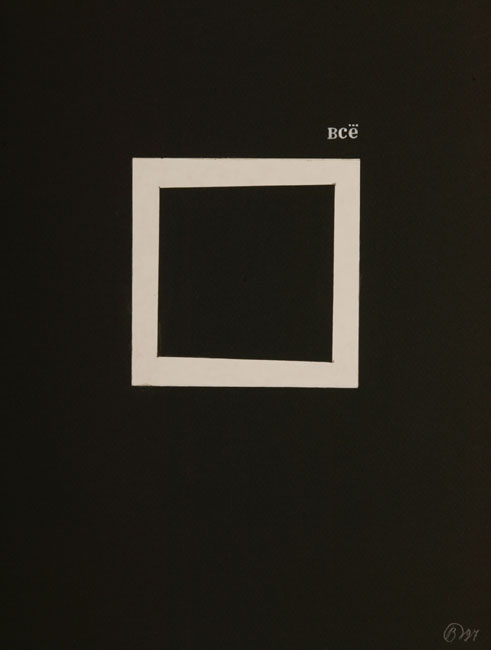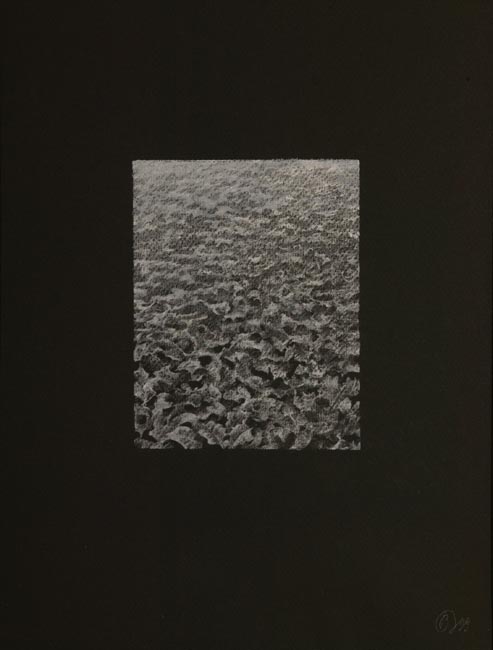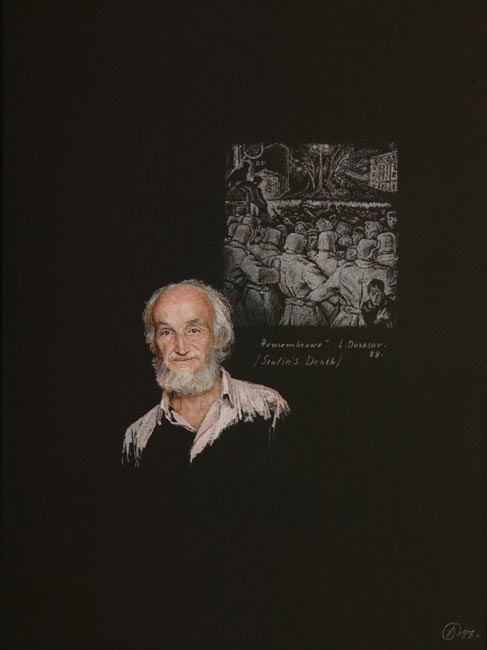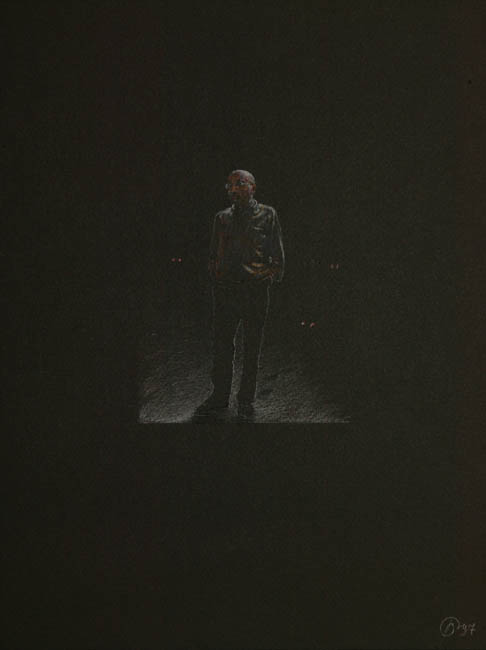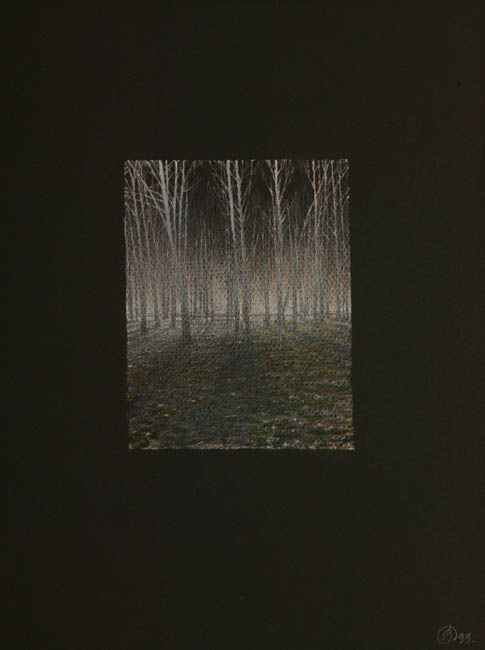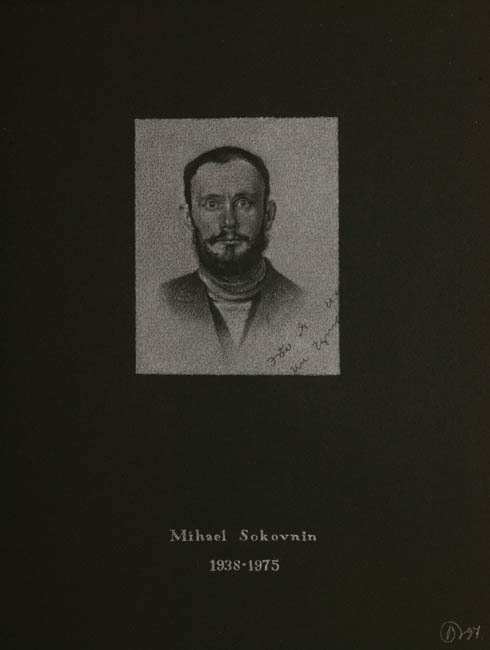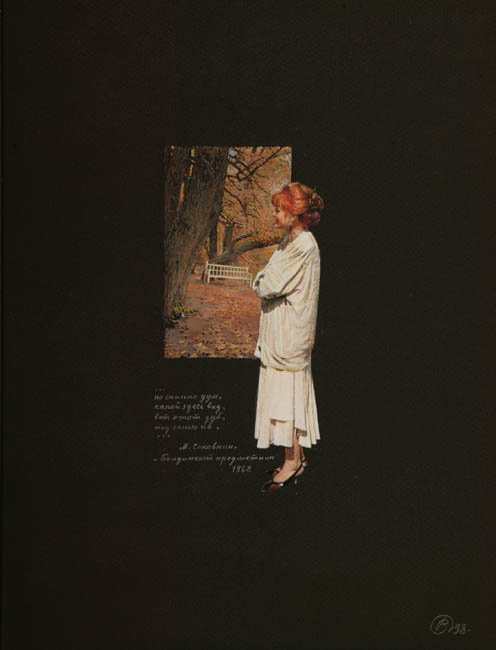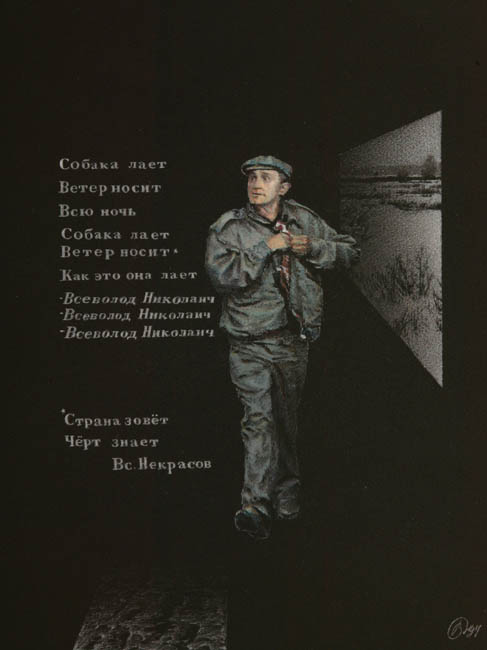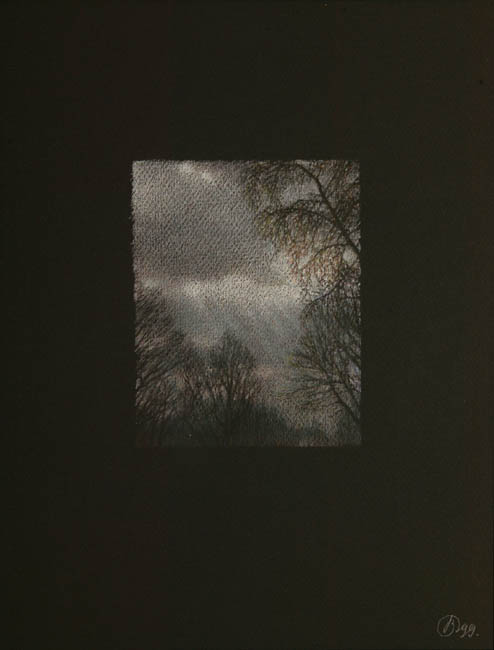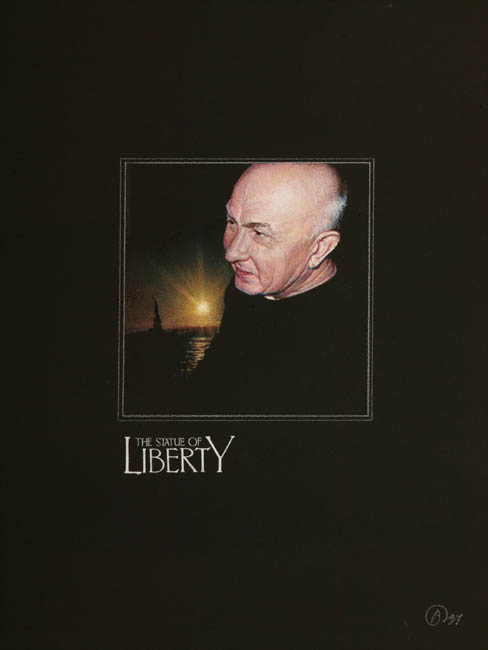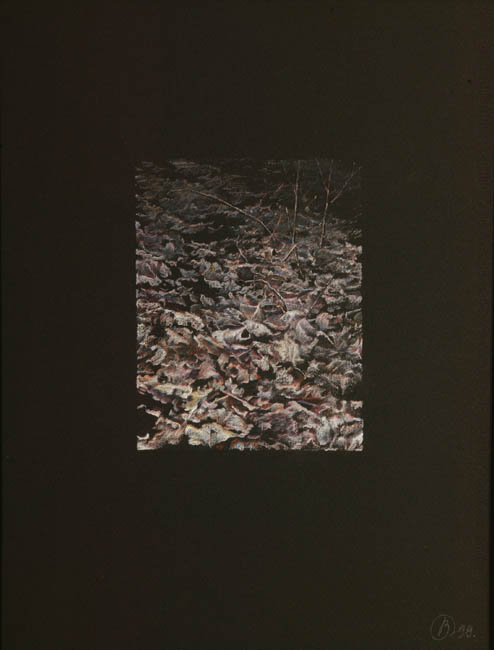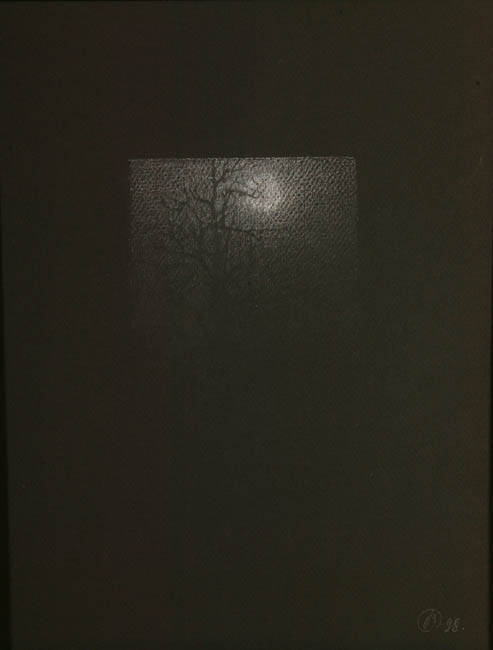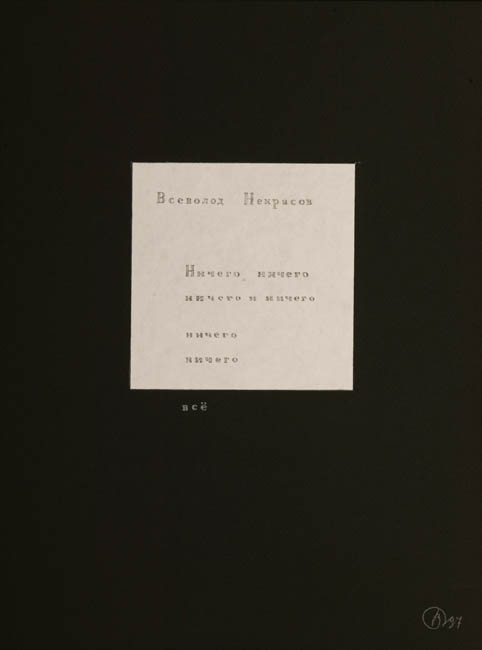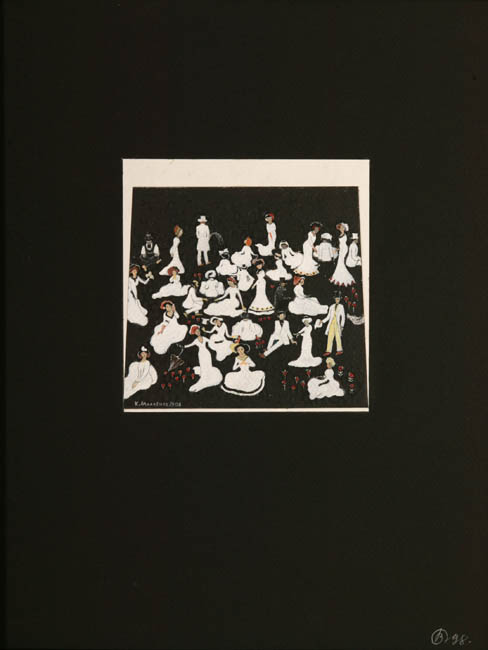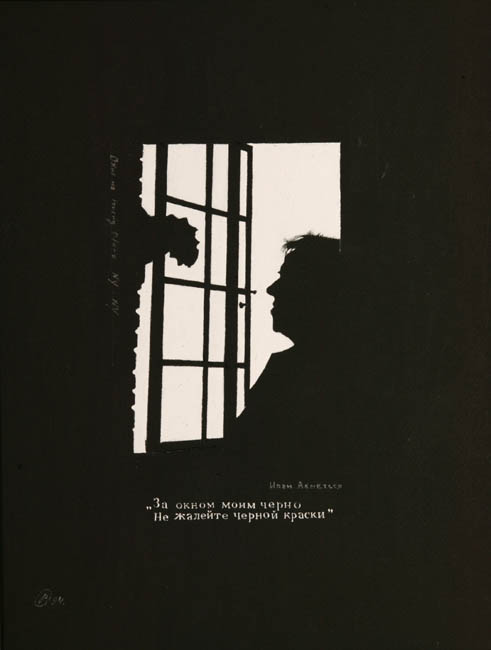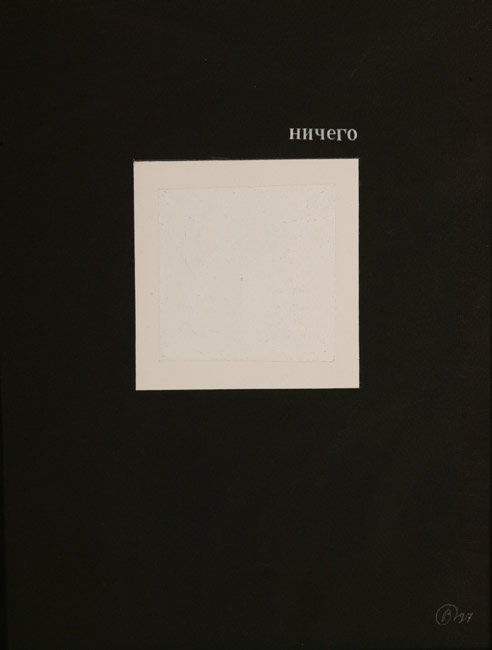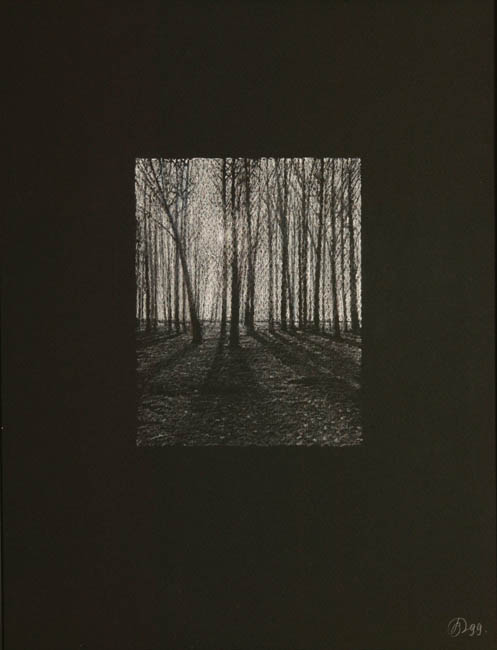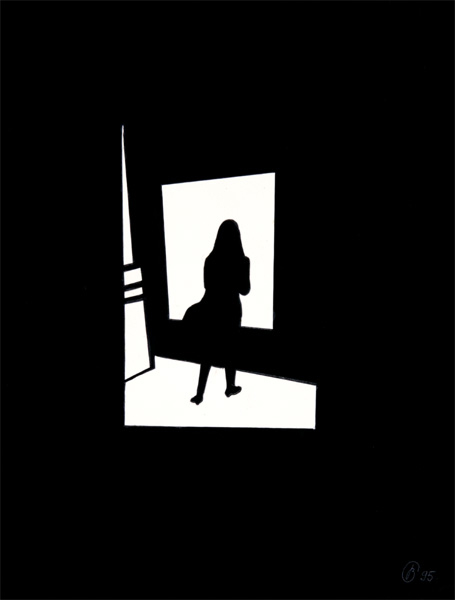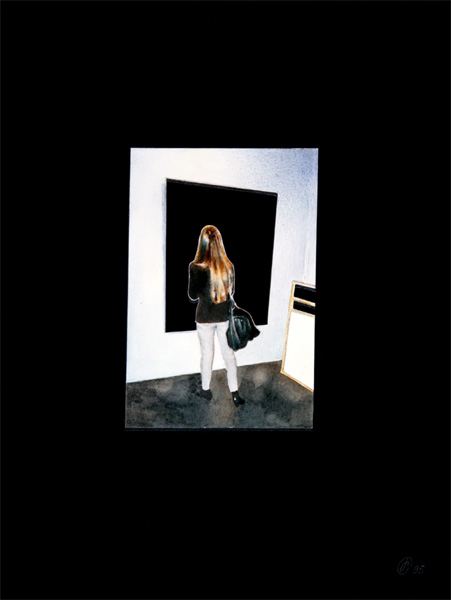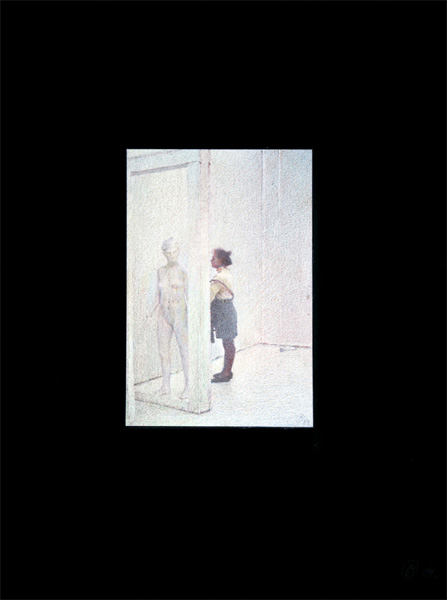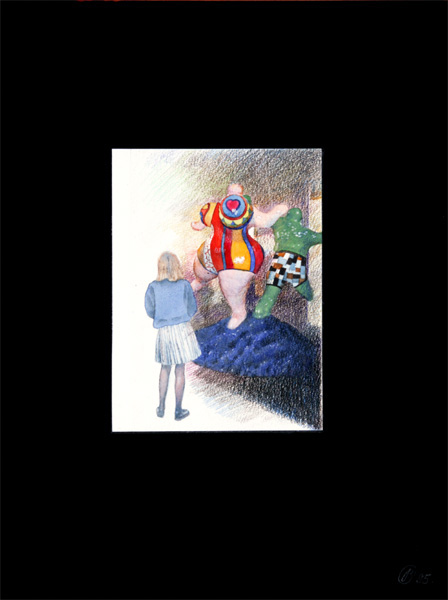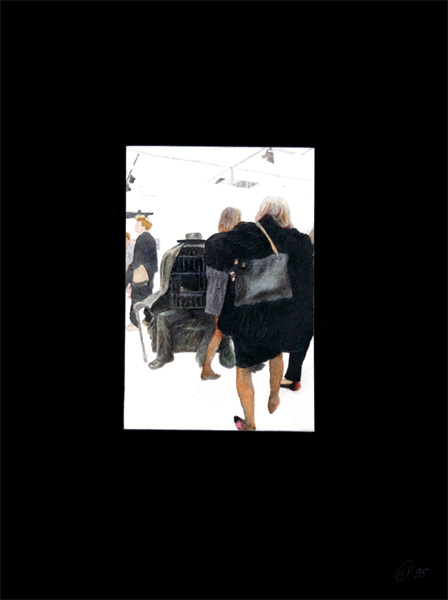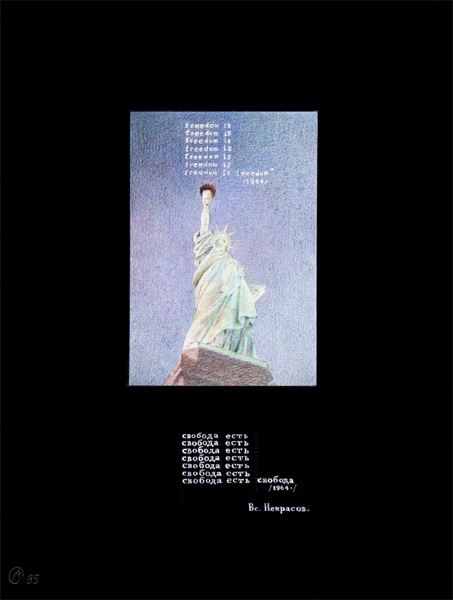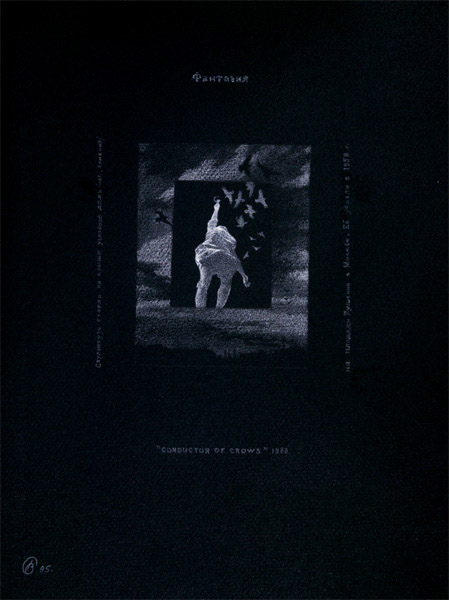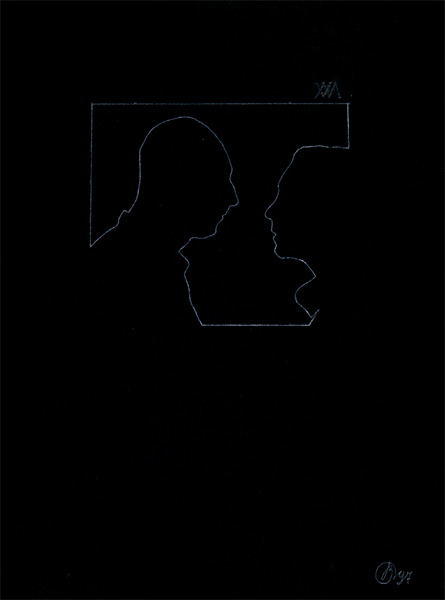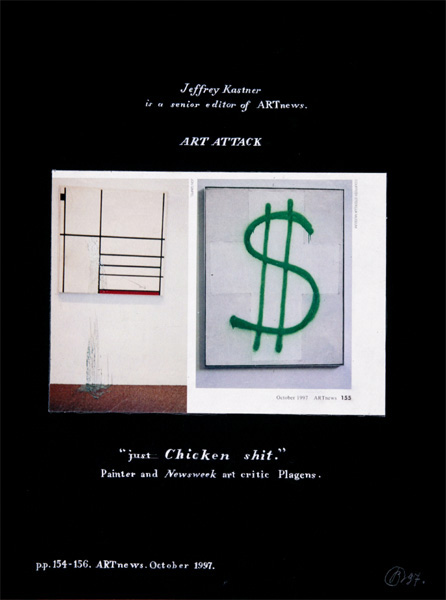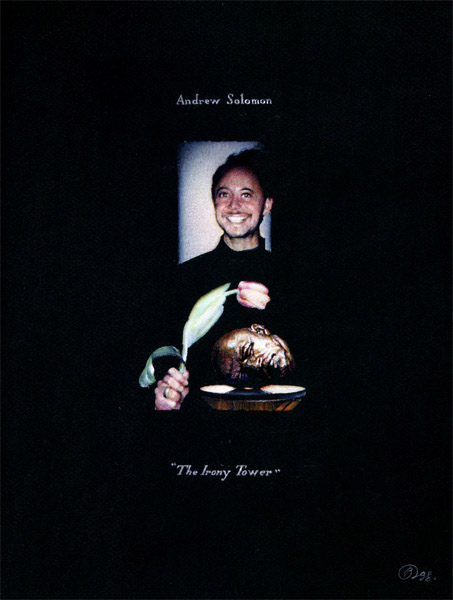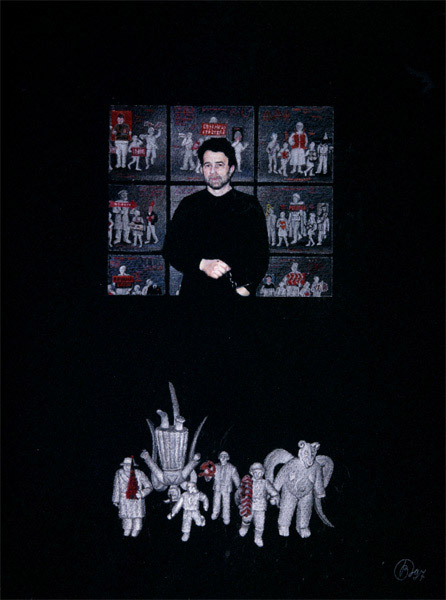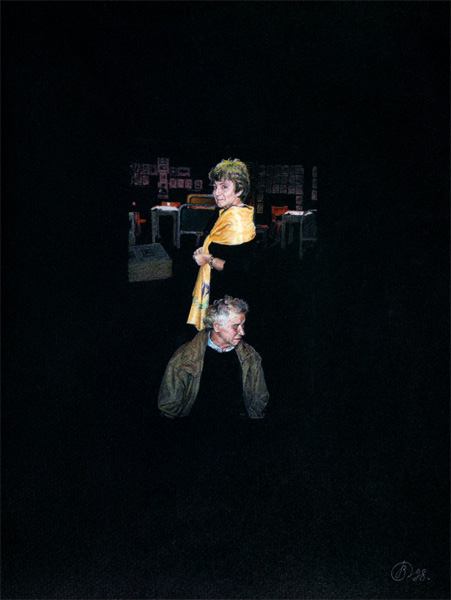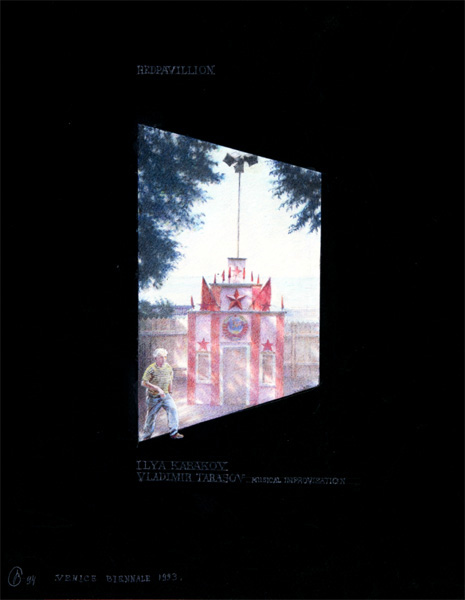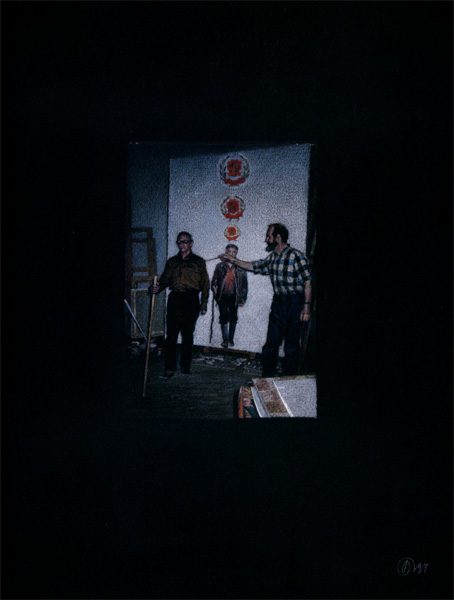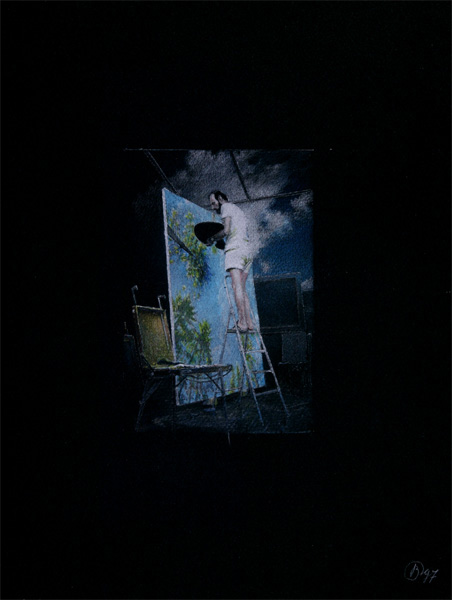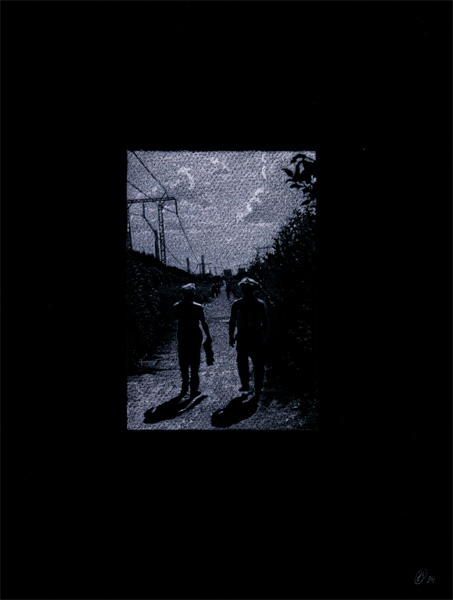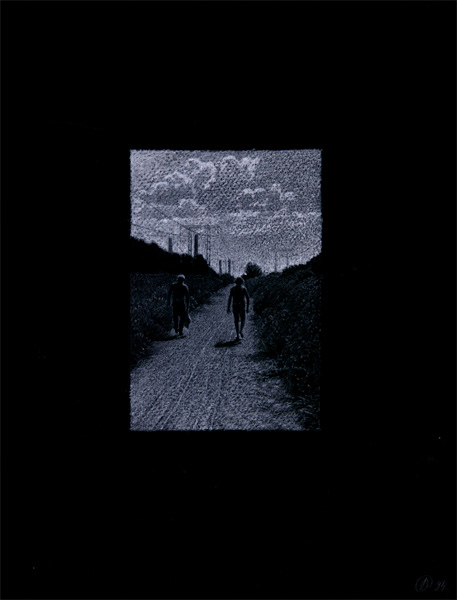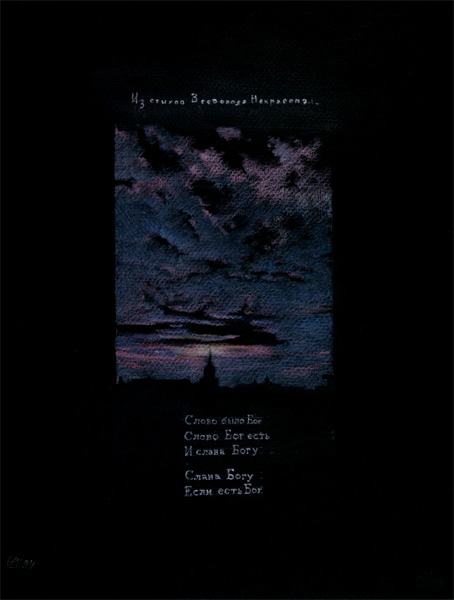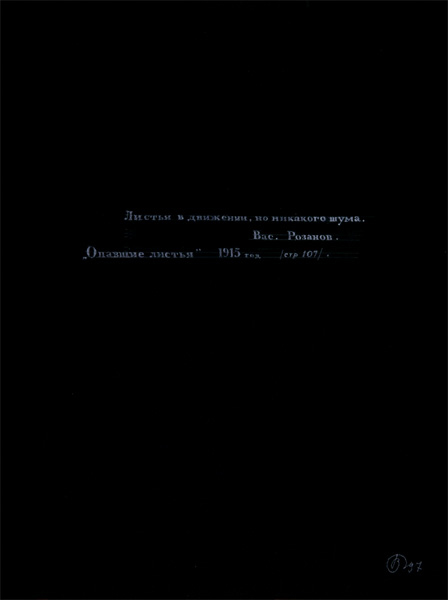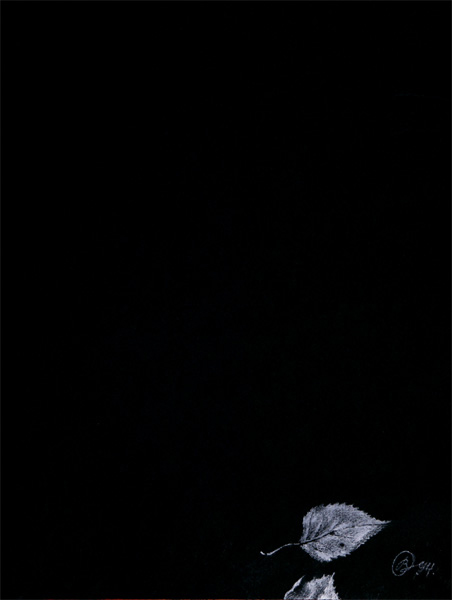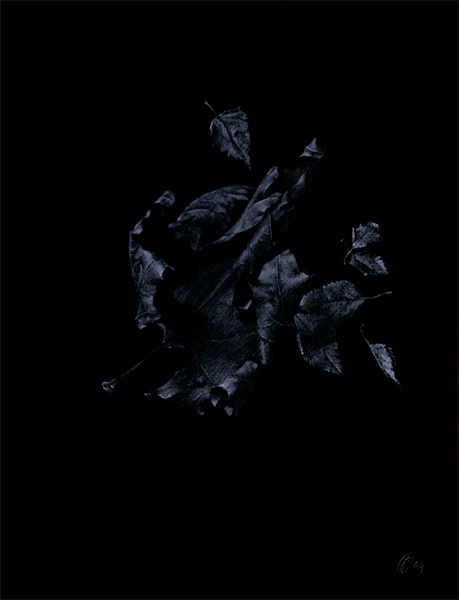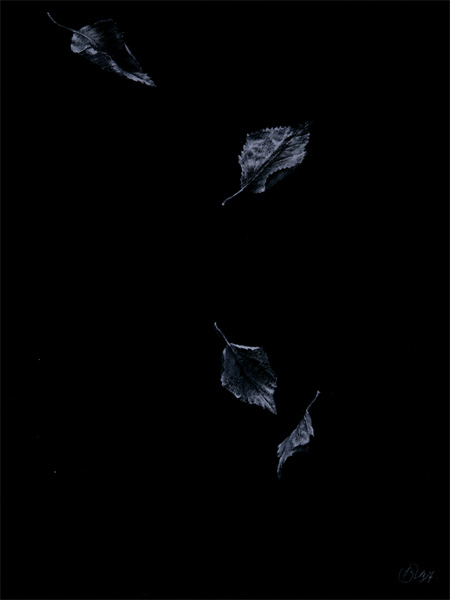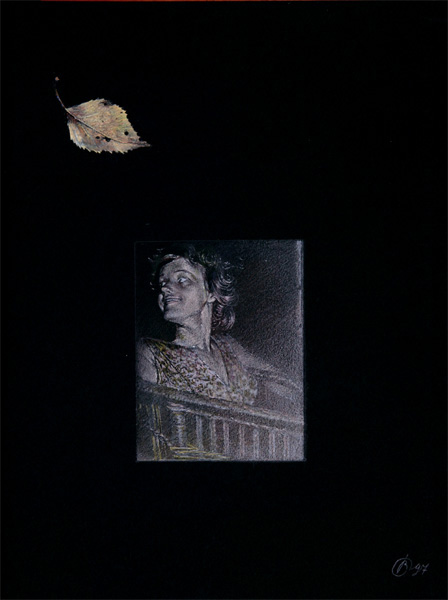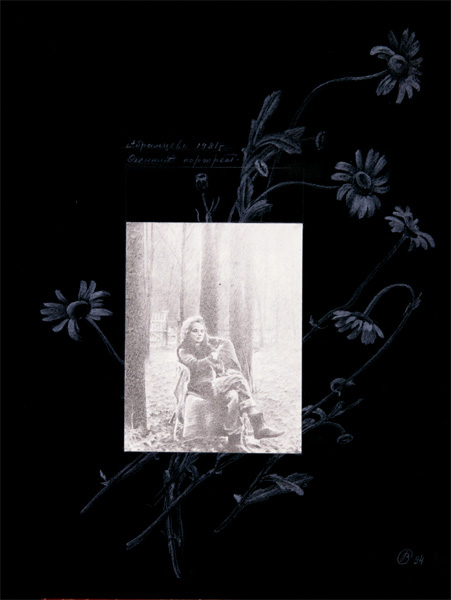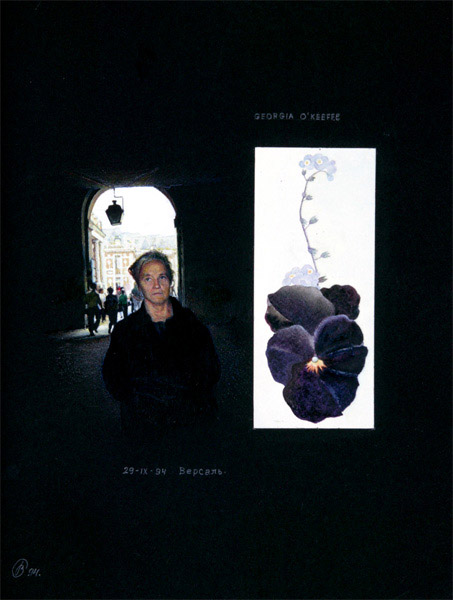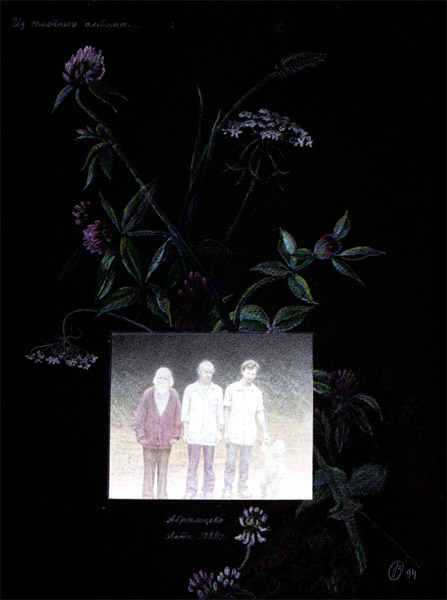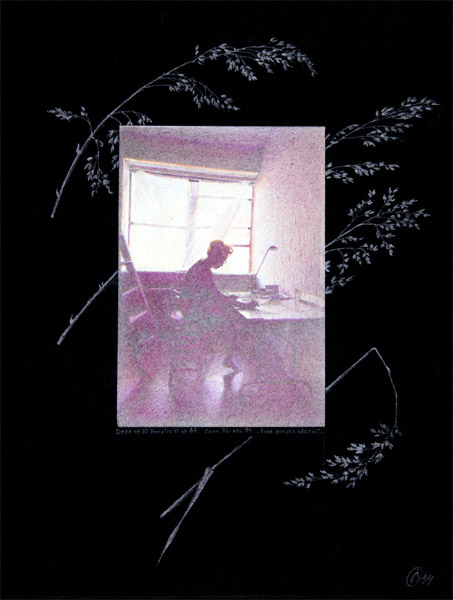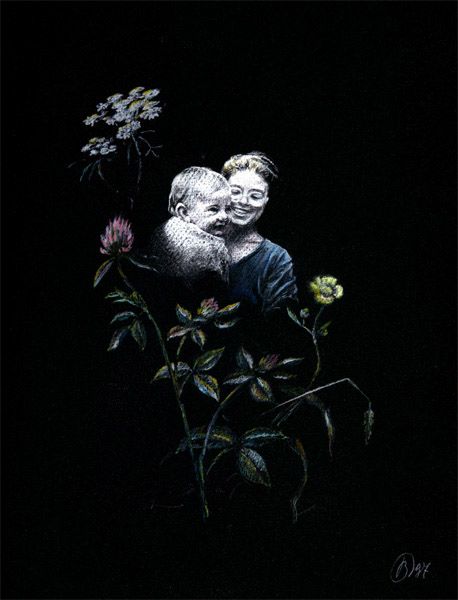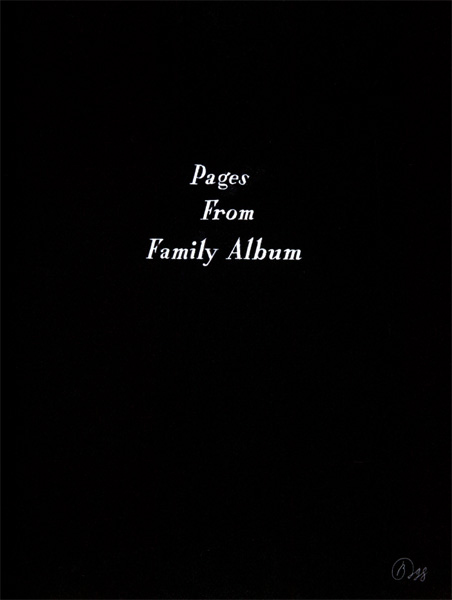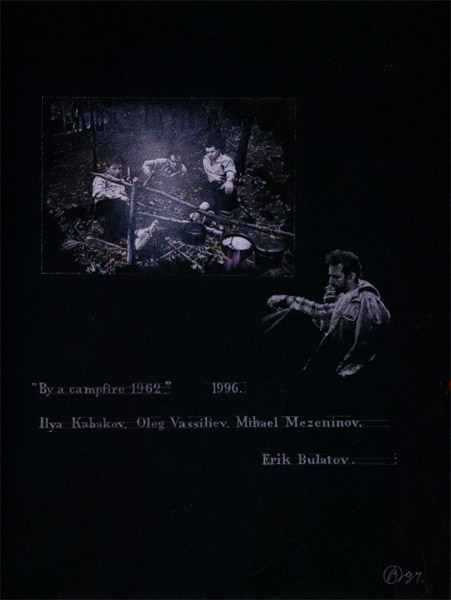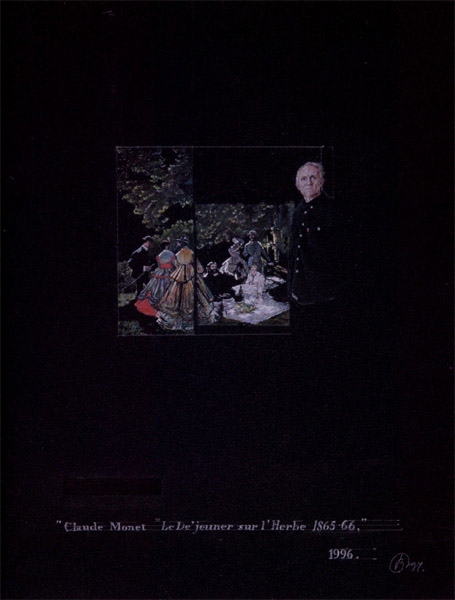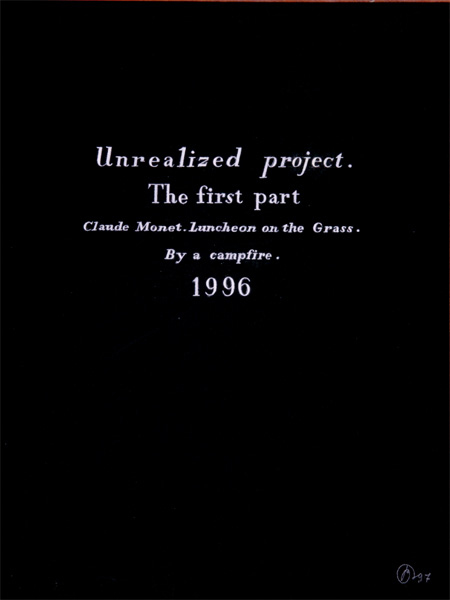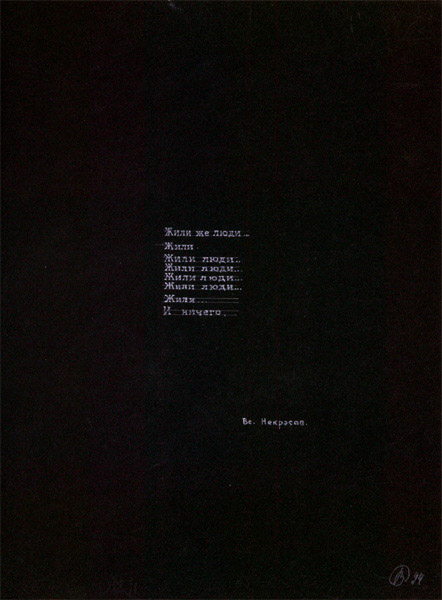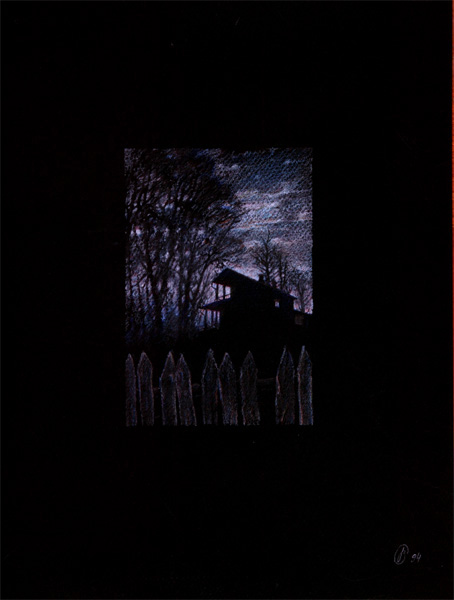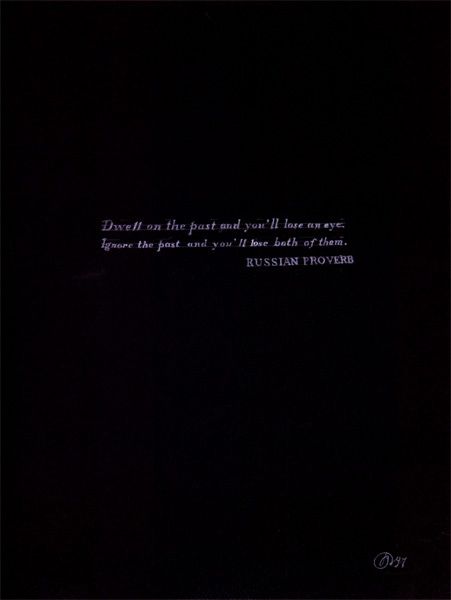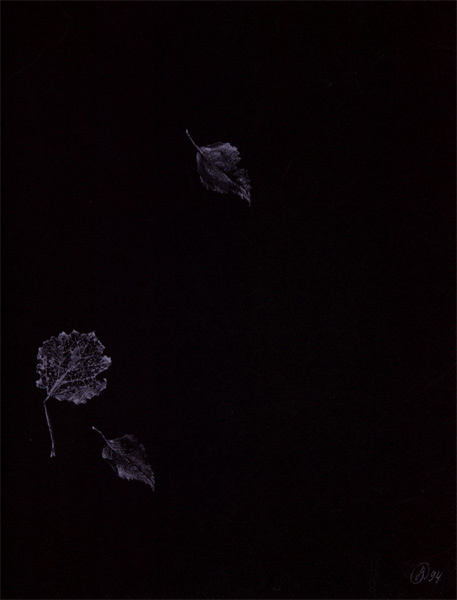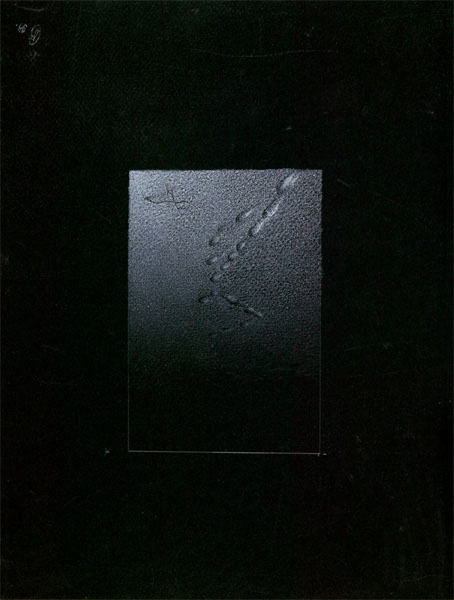На черной бумаге, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5x25
Эрик Булатов. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
Илья Кабаков. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
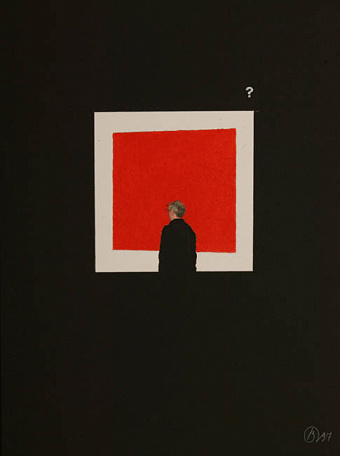
бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж
32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж | 32,5х25
Михаил Меженинов. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
Оскар Рабин. Ему видятся волки. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Диалог" III, 1994-7
| 32,5х25
Михаил Соковнин. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
Наташа Годзина Булатова. Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
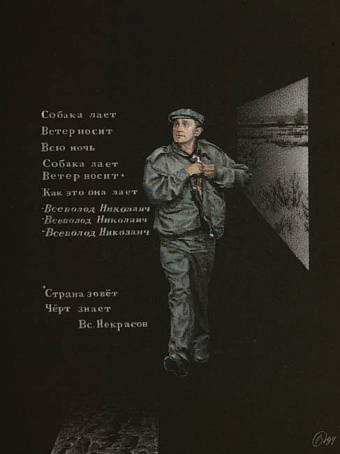
бумага, смешанная техника
32,5х25
Серия «К 65-летию Олега Васильева» VIII, 1994-7
бумага, смешанная техника | 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Леонид Соков. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
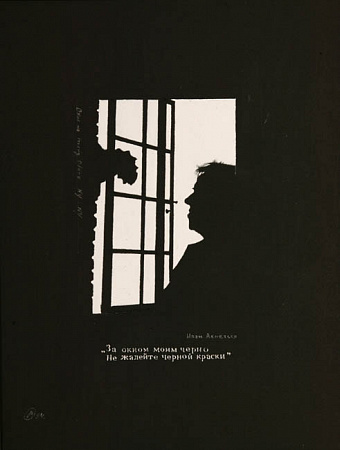
бумага, смешанная техника
32,5х25
Окно на Irving Place NY. Серия "Диалог" III, 1994-7
бумага, смешанная техника | 32,5х25
Серия "Малевич-Некрасов" VII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Свет в лесу" II, 1994-7
| 32,5х25
Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7
| 32,5х25
Фиак 91г. Париж. Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7
| 32,5х25
Серия "The Art Fair /FIAC/" XII, 1994-7
| 32,3х25
Серия "Freedom" XI, 1994-7
| 32,5х25
Свобода есть свобода. Серия "Freedom" XI, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Freedom" XI, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Тупицыны (Виктор и Маргарита). Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
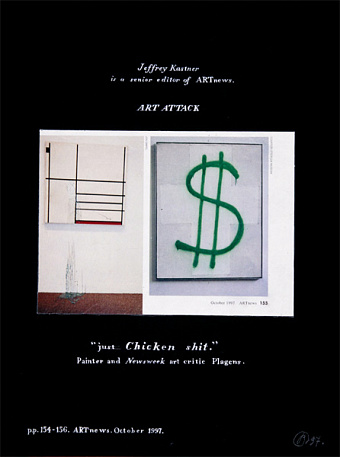
бумага, пастель, коллаж
32,5х25
Бренер и Малевич. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
бумага, пастель, коллаж | 32,5х25
Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
Олег Кулик. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5x25
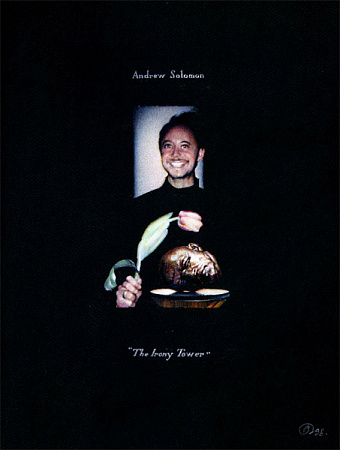
бумага, пастель, гуашь
32,5х25
Андрей Соломон. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
бумага, пастель, гуашь | 32,5х25
Гриша Брускин. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
Кабаковы Эмилия и Илья. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
Venice biennale 1993. Серия "Искусство и художник(и)" X , 1994-7
| 32,5х25
Перформанс. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
В мастерской Э. Булатов. Серия "Искусство и художник(и)" X, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Москва. Открытое шоссе. Воскресенье. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
| 32,5х25
Москва. Открытое шоссе. Воскресенье. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
| 32,5х25
Из окна на Чистопрудный бульвар. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
| 32,5х25
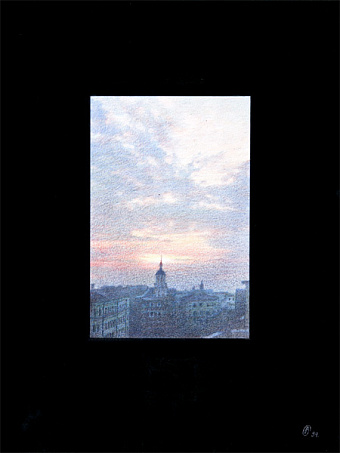
бумага, пастель, коллаж
32,5х25
Меншикова башня. Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
бумага, пастель, коллаж | 32,5х25
Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Листья в движении" V, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Листья в движении" V, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Листья в движении" V, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Листья в движении" V, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
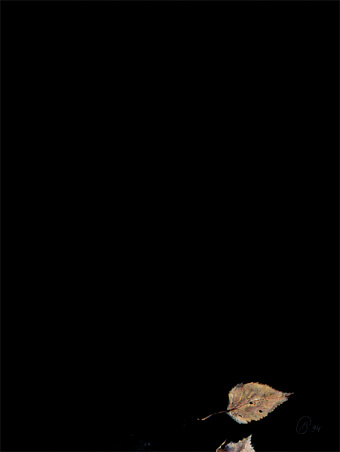
бумага, пастель, гуашь
32,5х25
Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель, гуашь | 32,5х25
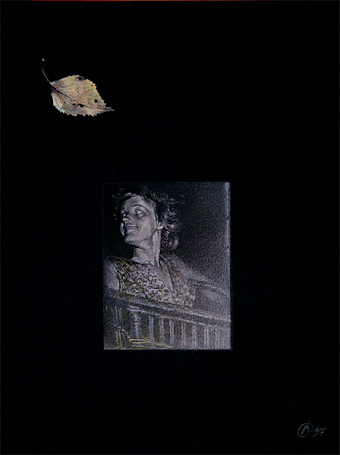
бумага, пастель, гуашь
32,5х25
Кира 1959. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель, гуашь | 32,5х25
Осенний портрет. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
| 32,5х25
Версаль. Цветы Georgia O'Keeffe. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
| 32,5х25
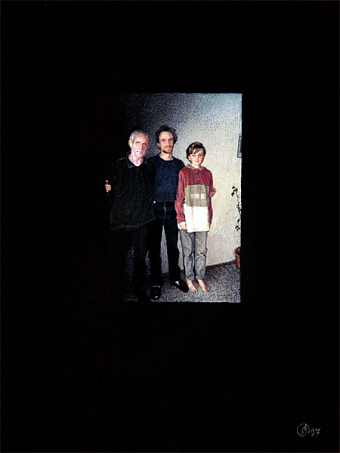
бумага, пастель, гуашь
32,5х25
Три поколения. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель, гуашь | 32,5х25
Четыре поколения. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
| 32,5х25
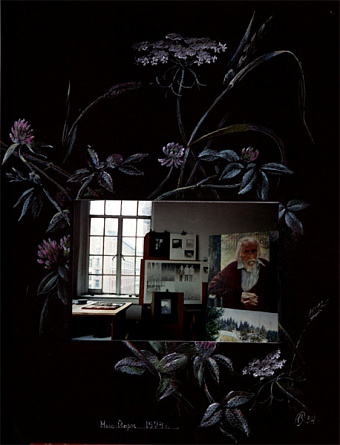
бумага, пастель, коллаж (фотография)
32,5х25
Мастерская на Irving Place. NY, 1994. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель, коллаж (фотография) | 32,5х25
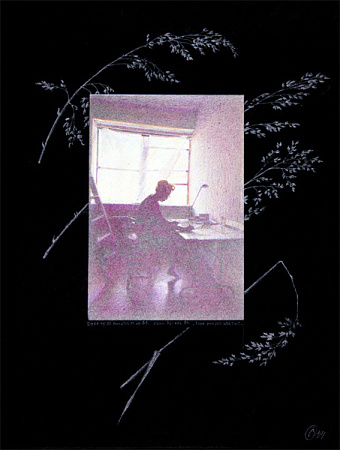
бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж
32,5х25
Студия на Horatio St. NY, Кира рисует. Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, цв. карандаш, темпера, гуашь, коллаж | 32,5х25
Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25

бумага, пастель, гуашь
32,5х25
Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель, гуашь | 32,5х25
Серия "Из семейного альбома" VI, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Листья в движении" V, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Старики. Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7
| 32,5х25
У костра 1962. Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Нереализованный проект" IX, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Дом" I, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Дом" I, 1994-7
бумага, пастель | 32,5x25
На черной бумаге, 1997
бумага, пастель | 25х32
Серия "Листья в движении" V, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25
Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
| 32,5х25
Серия "Freedom" XI, 1994-7
| 32,5x25
Серия "Слово Бог" IV, 1994-7
бумага, пастель | 32,5х25